Дневник мертвого человека. [Шок].
m
murmoshka
По статистике МВД, в России каждый год с собой кончают более 40 тысяч человек. Население города средних размеров, каких в Центральной России тысячи. Передо мной дневник 29-летнего молодого человека, кассира-операциониста Петроагробанка, который покончил с собой через повешение в начале декабря 2009
года. Такие дневники десятками пылятся в комнатах вещдоков районных прокуратур. Я с большим трудом получила разрешение родных Дмитрия К., банковского служащего, на то, чтобы опубликовать выдержки из его записей. Читать это страшно, хочется кричать: "Люди, одумайтесь". Дмитрия К. лечили врачи
Института Амосова, а черствое общество убило его своим хамством и бессердечием. Такая обычная трагедия, рядовая для современной России.
Чтобы можно было опубликовать текст дневника в Интернете, мне пришлось исключить из него нецензурную брань и ненормативную лексику. Это не повлияло на смысл написанного.
17 ноября 2009 г.
Завтра уезжаю на операцию. До сих пор не могу поверить в то, что все это приключилось со мной. Правда, говорят, что аортокоронарное шунтирование сегодня для хирургов ? семечки. Посмотрим. Институт Амосова похож на большой, грязноватый железнодорожный вокзал, хотя хмурые тетки в синих халатах с ведрами и швабрами в руках ежедневно отскребают его от иногородней скверны. Орут в санпропускнике какие-то бабы, получившие по случаю карантина гриппа особые полномочия, и гонят несчастных, сопревших в маршрутках, смертельно испуганных людей, некоторых и с грудными детьми, в аптеку напротив (двадцать ступеней вниз) за разовыми масками. Там им всучивают, вместо маски за рубль, целый гигиенический пакет, битком набитый никому не нужной дрянью. Тут и газовой легкости балахон, который сразу же расползается даже на самых хрупких плечах; и два целлофановых пакета, вместо бахил, и шапочка со вставленной по кругу резинкой из столь же недолговечного материала, что и символический халат. Люди, страшно напоминающие беженцев в лихую оккупационную годину, тычут бабкам под нос фиолетово-синий ком и прорываются к лифтам. Плачут дети, которых тут видимо-невидимо. У каждого ребенка больное сердце и каждому хочется спать. На сцепленных между собою, как в совковых конференц-залах, креслах, ютятся ходоки отовсюду, с узлами, которые держат в обхватку, будто боясь потерять; в полуразмотанных платках; простой, деревенской одежде; привычно терпеливые, безропотно, обреченно подчиняющиеся многочисленным девицам с резкими, равнодушными голосами, чьих лиц не видно под белыми масками, западающими от дыхания на месте ртов. В этой безликой толпе блуждают, протискиваясь по праву старожилов к дверям кабинетов и лабораторий без очереди, уже взятые на учет пациенты, готовящиеся к встрече с чистилищем и плохо понимающие, что их ждет на самом деле. Каждый с толстой историей болезни под мышкой, из которой торчат во все стороны ленты кардиограмм и целлулоидно пощелкивающие листы рентгеновских снимков. К восьми утра эту безрадостную картину ненадолго оживляют медсестры и врачи, проносящиеся кометами к тем же лифтам; в большинстве своем женщины, длинноногие, хорошо одетые, благоухающие пришельцы из нормального, живого мира. Они через несколько минут нырнут за одинаковые белые двери, чтобы затем выйти оттуда, уже лишенными лиц: маска, шапочка, глаза, в которых нет индивидуального ни к кому отношения.
Институт Амосова. 22 октября 2009 года. Канун операции.
За окном палаты, среди частных строений, летом утопающих в зелени, а сейчас серых, густо заштрихованных тонкими, косыми ветвями, возвышается веселый замок из красного кирпича, с красными же крышами. Ну, может быть, не замок, а хутор. Нянька беззлобно констатирует непреложную истину: для богатеньких, не нам чета! Удивительно, что там днем ничего не происходит и, значит, строительство закончено, но и ночью, окна не светятся, даже напротив, это место кажется зияющим провалом, черной дырой. Для кого возведены круглые дома-башенки? Кого там ждут? Может быть, это всего лишь марево, больничный мираж для таких, как я, чтобы надеялись на лучшее? Подготовка ? что к ангиографии сосудов сердца, что к самой операции ? сводится, помимо банальной клизмы, к бритью. Резать будут грудь и ногу, а брить нужно все кругом. За это и берется пожилая нянечка Нина Ивановна. Она укладывает меня, голого, на твердую кушетку в своей подсобке и начинает скрести в самых интимных местах сухой, безопасной бритвой; сдувает отсеченные волоски, ворочает из стороны в сторону мягкими пальцами доставшееся мне по милости божьей и весело приговаривает: ?Они всегда смеются ? мол, опять, Нинка, тебе повезло, наиграешься всласть! А мне шесть десятков, и жалко всех вас, спасу нет!? Наутро, перед коронарографией, она наспех, прямо в кровати, добривает мне ноги. ?Ну, ладно, -- говорит, -- в добрый час!? Ей действительно хочется меня дождаться, пускай и несколько поврежденным, но с сердцем, зведенным еще лет на двадцать пять. Она -- добрая женщина, Нина Ивановна. В этом аду ей самое место. Что такое коронарография? Ничего хорошего. В бедренную или локтевую, а то и в запястную артерию вводится под местной анестезией катетер с зондом на конце, продвигается до устья аорты, а затем через него вводится контрастное вещество, которое с помощью рентгена дает разглядеть состояние сосудов, питающих сердце кровью. Пока в тебе копаются, радости мало. Когда сводит тянущей болью бедро и ты слышишь, что у тебя слишком низкий болевой порог, ничего другого не остается, как сообщить молодцу, которой то шваркает внутри тебя проволокой, то буквально укладывается на твое бренное тулово и елозит по нему с рентгенаппаратом, стараясь разглядеть тоненькие кровеносные ниточки, увы, забитые кальцием до последней силы-возможности, -- ничего не остается, как мстительно сообщить ему, что у него руки растут из задницы. Молодец не обижается. Ты для него ? субъект исследования и ничего больше. Здесь вообще никто ни на кого не обижается, кроме совсем уж угрюмых идиотов, которые считают, что их, смертных, будут лечить хуже, чем врачуют богатеньких отцов нации. Но ведь отцы нации идут под нож не в Киеве, а где-нибудь в Тель-Авиве или Мюнхене, и конкуренции нашим бедолагам не составляют. Так было и так будет всегда. Мне вот сообщили, что оперироваться нужно срочно. Лучше всего прямо завтра. Я не возражал. Тут уж не до Тель-Авива. Тем более, что о хирурге Руденко говорили, что он кудесник, творит чудеса, а сам кудесник, назначивший вышеописанное дообследование, боялся, что обойтись шунтами не удастся, возможно, понадобится пластика одного из желудочков, а это значит ? сердце придется остановить, уложить его на лед, включить легендарный АИК и начать штопать и перекраивать омертвелый насос, который потом, бывает, и не запускается. Однако теперь стало ясным, что никакой пластики не будет и, следовательно, операция предстоит мне штатная, на работающем сердце, хотя сюрпризы, конечно, возможны. Руденко, подвижный, сухощавый, вроде родоначальника этого заведения Амосова, и абсолютно внятный, вызывал доверие. А если бы и не вызывал, деться все равно было бы некуда. Волноваться в таких случаях бессмысленно. Оставалось уснуть, как можно скорее. Помогли ?Другие берега?. Набоков, которого поразили в начале дороги две неизбежные данности: кромешная тьма до его появления на свет, где содержалось, тем не менее, все сущее, кроме него самого, и тьма, что наступит потом, после его смерти, когда ощущение полноты мира для мириадов сущностей останется тем же, но его нигде не будет, ищи не ищи. Сейчас я, как Набоков, еще оставался в видимой, земной части спектра, но, понимая всю непредсказуемость операции на сердце, видел, что стою на пороге, за которым разлита тьма второго рода. Тьма первого рода меня тоже не пугала: в ней гнездилось ? и это доказывали примеры иных жизней -- достоверное предощущение себя как биологического феномена. Второе состояние могло прийти ко мне в любой миг. Но стоило ли его страшиться? Во-первых, ничего нельзя было изменить. Во-вторых, сдвиг в ничто, наверняка, окажется мгновенным, для меня лишенным значения, ибо произойдет это вне сферы живых чувств. В общем, Набоков оплел меня тончайшей паутиной спекулятивных рассуждений, и это доставило мне странное, болезненное удовольствие. В общем, будь, что будет.
25 октября 2009 года. Отделение реанимации и интенсивной терапии.
Рвотный синдром ? вот с чего начинается реанимация. Сначала трудно понять, где ты и что с тобой происходит. Над тобою плавают неясные лица, глаза заливает жгучая влага, способная, кажется, их выжечь до тла. Зубы сжимают лошадиный мундштук, похоже, пластмассовый. В горле торчит колом жесткая трубка, по которой поступает в легкие кислородная смесь. Но об этом я узнаю потом. А пока ежесекундно давлюсь и захлебываюсь слизью, слюной, пеной. Из поднебесья, откуда исходит яркий свет, доносится голос: ?Не кусайте трубку! Дышите спокойно!? Я пытаюсь делать это, но безуспешно. На два-три вдоха-выдоха приходится спазм в исцарапанном дыхательном горле, судорожная волна поднимается вверх, стремясь вытолкнуть трубку, исторгнуть наружу всю эту забивающую дыхание мерзость. Однако на то, что со мной происходит, никто не обращает внимания. Судя по звукам, доносящимся справа и слева, там происходит нечто подобное с другими людьми, чьи сердца только что ворочали хирурги. Я, стараясь не задохнуться, языком раздвигаю губы и пускаю струю пенящейся слюны в эту щель. Тут снова появляется сильно размытое пекучими слезами лицо. ?Вы видите меня?? Моргаю утвердительно. ?Хорошо. Сожмите мою руку!? Свою я оторвать от кровати, к которой привязан, не могу. В мою вялую ладонь протискивается посторонняя, с воли, и я изо всех сил ее давлю. Слышу: ?Самому дышать рано. Подождем еще с полчаса?. Меня охватывает ужас. Ясно, что я задохнусь. Но до того никому нет дела. Рядом выволакивают из болота наркоза кого-то другого. Я продолжаю захлебываться слизью. Все время пытаюсь нащупать нижний конец дыхательной трубки, чтобы вытолкнуть ее, начать дышать самостоятельно, давлюсь, издавая дикие звуки. Но никто не подходит. Наконец, спустя вечность, я сжимаю чужую ладонь с силой, достаточной, чтобы они там, наверху, поверили в мою способность жить самостоятельно. Для начала перестает тяжело посипывать аппарат принудительной вентиляции легких; в ту же трубку, орудие пытки, всовывают какую-то пластиковую соломину и заставляют втягивать воздух через нее. Дело идет плохо, но идет. А потому отобравшую все мои силы трубу, наконец, вытягивают, освобождают руки и на мою физиономию надевают намордник ? кислородную маску, от которой я сразу взмокаю. Так начинается ирреальная жизнь в отделении реанимации. Поле зрения больного здесь сужено до предела. Кровать-многочлен, которой, однако, сам пациент управлять из-за несовершенства конструкции и упадка сил не может, как ни сопрягай ее части, все равно неудобна. Спинка, на которую опирается под тупым углом болящий, не оставляет никаких надежд удержаться в этом положении с помощью силы трения. Ты все равно неостановимо, по миллиметру-два в минуту, съезжаешь вниз, и ничем не защищенная твоя задница оказывается как раз на стыке двух фрагментов кровати, куда затянута скомканная простыня, постепенно становящаяся в месте соприкосновения с изболевшимся телом твердой и острой, как бритва. На ноги больного брошен и давит нестерпимой тяжестью типичный морской трап, принайтовленный к спинке кровати ? два параллельных витых каната со вплетенными в них на равном расстоянии, отполированными тысячами рук предшественников перекладинами. Распиленную сверху донизу грудину прикрывает лишь марлевая наклейка. Еще одна, более короткая, лежит поперек, перпендикулярно первой. Самая же длинная приклеена к левой ноге, от щиколотки до паха ? отсюда извлекли вену, которую затем нарезали на шунты, сейчас опутывающие сердце. Увидеть все это можно, только скосив глаза, и картина при этом открывается отталкивающая. Из-под повязок на груди, как раз в месте их пересечения, выползают два дренажных шланга, каждый с палец толщиной. Судя по тому, что происходит на соседней кровати (ее можно разглядеть, вывернув шею и чуть приподняв голову, под которой нет подушки), по этим шлангам, погруженным глубоко в рану, под самое сердце, стекает в банку желтовато-коричневая сукровица. Довершает экипировку больного с распоротой грудью тоненький мочевой катетер, уходящий в пластмассовое ведро, установленное под каждой кроватью. Время от времени неторопливые нянечки собирают то, что успело набежать, в общую емкость и куда-то уносят.
Каждый день, проведенный в реанимации, унизителен. Особенно же, когда дежурит смена, которой на тебя наплевать. Смен, которые тебя любят, холят и лелеют, понимая, что ты перенес, вообще не бывает. Здесь это был бы откровенный перебор. Но и среди тех, кто относится к изрезанным пациентам привычно сдержанно, без лишних сантиментов, есть разные люди. Одни эту невольную обузу принимают терпеливо, как данность, другие ? с ненавистью, находящей материальное, физическое выражение в полном пренебрежении своими обязанностями. В моей реанимации на двух больных приходилось по сестре или медбрату. На следующий после того, как я здесь оказался, день мне досталась сестрица со светлым именем Нина, которая почти сразу воткнула в уши наушники плейера, пританцовывая, направилась вглубь зала, к незанятым пока кроватям, и обрела там полную независимость от меня, красно-желтого, как копченый лосось, капризного, издерганного, еще не избавившегося от предоперационных переживаний. Остальные вели себя по отношению к нам примерно так же. Они, несмотря на демонстративную молодость, здоровье и запас жизненных сил, необходимых, чтобы разделить чужую беду, не спать сутками и всегда быть готовыми к чьей-то смерти, были уже в известной степени развращены ощущением полной власти над сердечниками холодного копчения, чьими эмоциями можно безнаказанно пренебречь. Только одна девочка ? Людмила, стеснительное, хрупкое существо с четырьмя месяцами стажа в этом аду, после банального медучилища; хрестоматийная украиночка с четко очерченными полукружьями бровей и мягкой улыбкой, взвалила на себя общую работу и беззлобно, улыбчиво перемещалась между кроватями, угадывая простенькие, но трудно осуществимые в нашем положении желания. Усаживала нас, подавала питье, протирала ноющие спины, отвечала на идиотские вопросы. Меня никто не предупредил о том, что после операции нужно спасать легкие, надувая воздушные шарики, и у меня, естественно, никаких шариков не было, как и родственников, которые могли бы их принести. Тогда Людмила притащила бутылку воды и гофрированную резиновую трубочку. Один конец ее опустила в бутылку, в другой заставила дуть. Я сдвигал кислородную маску на лоб, зажимал зубами трубку и выдувал в нее отвратительную наркозную массу, которая, казалось, продолжает отравой клубиться на дне легких. Сначала слышалось громкое сипение, когда я набирал носом воздух, а потом, на выдохе, ? вспенивалась и долго рокотала вода в бутылке. Таким образом, я стал вровень с теми, у кого здесь была родня, и кому передавали с няньками кульки с минералкой без газа и еще чем-то, о чем я не имел ни малейшего понятия. Водичку в маленькую бутылочку с соском мне отливала тайком из чужих двухлитровых бутылей все та же Люда ? выяснилось, что мне, кроме выпитых в первый день государственных двухсот граммов ?Моршинской?, больше ничего не полагалось. Остальное ? частная инициатива. Так и осталась у меня в памяти, Людмила, сидящая в одиночестве в полутемном реанимационном зале, на сестринском посту, и отчаянно борющаяся со сном, потому что ей нельзя было спать рядом с нами, не смыкающими глаз от боли, затрудненного дыхания, неопределенности, еще не испарившихся страхов и черт знает от чего еще.
1 декабря 2009 года. Палата.
Два великана в одинаковых пальто движутся по длинному больничному коридору. У сына в руках ? многостраничная история болезни, из которой косо выглядывают рентгеновские снимки. Вся фигура отца выражает недоумение. Видимо, только что услышали приговор. Они, уступая друг другу и наклоняя головы, медленно протискиваются в дверной проем. Трудно представить себе, что скоро один из них будет вынужден приспосабливать свои великанские параметры к здешним, усредненно-казенным. А делать нечего. Придется. Самое нелепое и сиротливое в институте Н. М. Амосова ? его маленький (так мне, по крайней мере, показалось) бюст в вестибюле главного корпуса. Я помню пронзительные, круглые, ясные глаза буддийского монаха, освещавшие костистое лицо живого Амосова. Здесь же было скульптурное изображение сильно исхудавшего лысого человека, слепо уставившегося запавшими глазницами на противоположную стену. И все.
Чай с лимоном в тонком стакане, утопленном в литой подстаканник, под перестук вагонных колес? Что может быть лучше и вкуснее!
Изрезанная грудь болит, я то и дело кашляю, тяжело, надрывно, чуть ли не до потери сознания; РОЭ не опускается; болят, кажется, все штопки на сердце, а меня не оставляет ощущение (особенно ночью), что я все еще где-то далеко от дома, что должна приехать мама, что именно тогда-то все станет на свои места, и я начну выздоравливать. Но мать никак не приезжает. Задница до того затвердела, что иголка гнется. И конца этому не предвидится.
5 декабря 2009 года. Палата.
В России даже прохудившийся чайник скоро будет квалифицироваться как пример возможного теракта, следы которого тянутся в Украину или Грузию. Мой старый знакомый, который перед моим отъездом на операцию куда-то пропал и всплыл только месяц спустя, не стал тратить времени на сочувственные охи да ахи. Он оценивающе посмотрел на себя и весомо произнес: ?Молодец! Ты успел. А другие не успеют!? Я сразу почувствовал себя перед ним виноватым.
Любопытные у меня после операции сны. Пересказать их невозможно, даже в самых общих чертах. Там действуют персонажи из моей прошлой жизни или совсем незнакомые люди. Их мимика, поступки, эмоции носят нормальный, типический характер, но направлены эти реакции на предметы, у которых нет ни имени, ни завершенных форм, ни логики существования. Иными словами, в этих снах я и мое окружение взаимодействуем ? принимаем решения, радуемся, огорчаемся, иногда обманываем себя, что-то драматизируем -- вполне предсказуемо. Но то неопределенное, с чем мы контактируем, не имеет нормального, земного выражения. Это, скорее, невероятное сочетание несочетаемого, к чему мы, однако, относимся во снах вполне спокойно, как будто ничего экстраординарного не происходит.
6 декабря 2009 года. Палата.
По-моему, наступает перелом. Всю ночь продирался через какие-то, опять-таки, неописуемые, препятствия. Затем уснул в состоянии неравновесного покоя, боясь пошевелиться, чтобы не накатил вновь приступ кашля, от которого начинает пощелкивать в несросшейся грудине и нарастает утомительная, нудная боль. Проснулся не то чтобы свежим, но без вчерашнего обморочного пессимизма. Посмотрим, что будет дальше. Пришла сестра. Измерила давление. Делала это неумело. Рука была напряжена. Получилось 130 на 80, чего быть не может. Посмотрим, что намеряет врач. Вот такие теперь у меня заботы. За окном ? задворки поликлиники, потом ? высоченные новые дома, еще незаселенные, а между ними ? неоспоримая ясность клочка земли, густо усыпанного снегом. Смотрю на это, словно впервые. Врач на сдельщине ? наша страховая медицина. Когда благополучие эскулапа зависит от числа пациентов, которых он успевает через себя пропустить, опасность быть залеченным до смерти снижается до нуля.
Страшно даже подумать, какое несчастье должно было произойти с православным священником, чтобы он расстрелял свою семью и покончил с собой. Дочь замуровала маму в пристройке к дому со словами: ?Живи там, как мумия?. Мать не протестовала. Мумия, так мумия. Главное, дочку не обидеть. Прокурор купил квартирку в Баден-Бадене. Когда его накрыли, уволился, как сам говорит, для того, чтобы досужие журналисты и депутаты из другого политического лагеря не шельмовали прокурорское сословие. Его можно понять. Он украл уже столько, что оставаться на прежнем месте давно не имело смысла. Теперь его могла бы удовлетворить лишь президентская должность. Но жалко денег, которые пришлось бы отдать за регистрацию в кандидаты. Карантин в преддверии новой волны гриппа, вместо школьных занятий. Прекрасное решение общеобразовательной задачи на национальном уровне. Особенно в разгар отопительного сезона. Можно ли зарезать человека из-за килограмма пельменей? Оказывается, можно. В конце 2009-го. На острове ?Крым?. Накануне войны.
10 декабря 2009 года. Палата.
Судя по статистике, мы вымираем со скоростью в 180 тысяч человек в год. Я выжил. И, значит, нарушил закономерность. Любопытно, чем это для меня обернется? А вот чем ? душит кашель, мелкий, суховатый, спазматический, на выдохе. Дескать, нечего идти против ветра. Положено откинуть коньки, откидывай и не кроши батон. Наверное, если тебя ломает жизнь, надо сломаться и не сопротивляться. Что я против дурных генов, против судьбы, которая подписала мне приговор? Школьник, эстонец из "Рассказа о семи повешенных" Андреева. У Андреева они умирали красиво, даже романтично. А что, если попробовать? Ведь человек при повешении, как в кино показывают, умирает мгновенно. Шея ломается и конец. Быстрый и безболезненный. Так зачем ждать? Это государство не умеет лечить, но умеет мучить. А я не скотина, которую используют как подопытный объект.
12 декабря 2009 года. Палата. Последняя запись в дневнике самоубийцы.
Выбор сделан... Можно было бы порассуждать о нем с задумчивостью Сенеки... Но какой смысл? Хочется забиться в угол и плакать, как плачет ребенок, которого избивали всю его недолгую жизнь родители... Жизнь плоха, жить больно, да и незачем. Люди без сердца не живут, а тут сердца восстанавливать не умеют. У меня растет РОЭ, возможен перикардит. Это смерть, но мучительная. А стоит ли ждать?
13 декабря наступила развязка. Дмитрий К., до 30-летия которому оставалось всего 2 неполных месяца, привязал к шее веревку и повесился на крюке в туалете отделения. Медсестры даже не хватились, когда пациента не обнаружили в палате. Холодный труп обнаружил случайный больной, который пошел утром в туалет.
На похороны пришел почти весь коллектив Полюстровского отделения Петроагробанка. Было очень страшно, жалко, хотелось плакать от безысходности. Общество умеет сопереживать лишь тогда, когда человек кричит о своей боли. Когда видит куски разорванных тел на месте теракта, видит кровь и ужас необъявленной войны. Сотни больных в России сводят счеты с жизнью лишь потому, что государственная медицина не может и не хочет им помочь. Об этих трагедиях не пишут СМИ, да и нет в этом необходимости для государства, где ценность человеческой жизни - ноль, если ты обычный рабочий, водитель, кассир, педагог, милиционер. Что еще должно произойти, чтобы этот круг равнодушия разорвался?
Чтобы можно было опубликовать текст дневника в Интернете, мне пришлось исключить из него нецензурную брань и ненормативную лексику. Это не повлияло на смысл написанного.
17 ноября 2009 г.
Завтра уезжаю на операцию. До сих пор не могу поверить в то, что все это приключилось со мной. Правда, говорят, что аортокоронарное шунтирование сегодня для хирургов ? семечки. Посмотрим. Институт Амосова похож на большой, грязноватый железнодорожный вокзал, хотя хмурые тетки в синих халатах с ведрами и швабрами в руках ежедневно отскребают его от иногородней скверны. Орут в санпропускнике какие-то бабы, получившие по случаю карантина гриппа особые полномочия, и гонят несчастных, сопревших в маршрутках, смертельно испуганных людей, некоторых и с грудными детьми, в аптеку напротив (двадцать ступеней вниз) за разовыми масками. Там им всучивают, вместо маски за рубль, целый гигиенический пакет, битком набитый никому не нужной дрянью. Тут и газовой легкости балахон, который сразу же расползается даже на самых хрупких плечах; и два целлофановых пакета, вместо бахил, и шапочка со вставленной по кругу резинкой из столь же недолговечного материала, что и символический халат. Люди, страшно напоминающие беженцев в лихую оккупационную годину, тычут бабкам под нос фиолетово-синий ком и прорываются к лифтам. Плачут дети, которых тут видимо-невидимо. У каждого ребенка больное сердце и каждому хочется спать. На сцепленных между собою, как в совковых конференц-залах, креслах, ютятся ходоки отовсюду, с узлами, которые держат в обхватку, будто боясь потерять; в полуразмотанных платках; простой, деревенской одежде; привычно терпеливые, безропотно, обреченно подчиняющиеся многочисленным девицам с резкими, равнодушными голосами, чьих лиц не видно под белыми масками, западающими от дыхания на месте ртов. В этой безликой толпе блуждают, протискиваясь по праву старожилов к дверям кабинетов и лабораторий без очереди, уже взятые на учет пациенты, готовящиеся к встрече с чистилищем и плохо понимающие, что их ждет на самом деле. Каждый с толстой историей болезни под мышкой, из которой торчат во все стороны ленты кардиограмм и целлулоидно пощелкивающие листы рентгеновских снимков. К восьми утра эту безрадостную картину ненадолго оживляют медсестры и врачи, проносящиеся кометами к тем же лифтам; в большинстве своем женщины, длинноногие, хорошо одетые, благоухающие пришельцы из нормального, живого мира. Они через несколько минут нырнут за одинаковые белые двери, чтобы затем выйти оттуда, уже лишенными лиц: маска, шапочка, глаза, в которых нет индивидуального ни к кому отношения.
Институт Амосова. 22 октября 2009 года. Канун операции.
За окном палаты, среди частных строений, летом утопающих в зелени, а сейчас серых, густо заштрихованных тонкими, косыми ветвями, возвышается веселый замок из красного кирпича, с красными же крышами. Ну, может быть, не замок, а хутор. Нянька беззлобно констатирует непреложную истину: для богатеньких, не нам чета! Удивительно, что там днем ничего не происходит и, значит, строительство закончено, но и ночью, окна не светятся, даже напротив, это место кажется зияющим провалом, черной дырой. Для кого возведены круглые дома-башенки? Кого там ждут? Может быть, это всего лишь марево, больничный мираж для таких, как я, чтобы надеялись на лучшее? Подготовка ? что к ангиографии сосудов сердца, что к самой операции ? сводится, помимо банальной клизмы, к бритью. Резать будут грудь и ногу, а брить нужно все кругом. За это и берется пожилая нянечка Нина Ивановна. Она укладывает меня, голого, на твердую кушетку в своей подсобке и начинает скрести в самых интимных местах сухой, безопасной бритвой; сдувает отсеченные волоски, ворочает из стороны в сторону мягкими пальцами доставшееся мне по милости божьей и весело приговаривает: ?Они всегда смеются ? мол, опять, Нинка, тебе повезло, наиграешься всласть! А мне шесть десятков, и жалко всех вас, спасу нет!? Наутро, перед коронарографией, она наспех, прямо в кровати, добривает мне ноги. ?Ну, ладно, -- говорит, -- в добрый час!? Ей действительно хочется меня дождаться, пускай и несколько поврежденным, но с сердцем, зведенным еще лет на двадцать пять. Она -- добрая женщина, Нина Ивановна. В этом аду ей самое место. Что такое коронарография? Ничего хорошего. В бедренную или локтевую, а то и в запястную артерию вводится под местной анестезией катетер с зондом на конце, продвигается до устья аорты, а затем через него вводится контрастное вещество, которое с помощью рентгена дает разглядеть состояние сосудов, питающих сердце кровью. Пока в тебе копаются, радости мало. Когда сводит тянущей болью бедро и ты слышишь, что у тебя слишком низкий болевой порог, ничего другого не остается, как сообщить молодцу, которой то шваркает внутри тебя проволокой, то буквально укладывается на твое бренное тулово и елозит по нему с рентгенаппаратом, стараясь разглядеть тоненькие кровеносные ниточки, увы, забитые кальцием до последней силы-возможности, -- ничего не остается, как мстительно сообщить ему, что у него руки растут из задницы. Молодец не обижается. Ты для него ? субъект исследования и ничего больше. Здесь вообще никто ни на кого не обижается, кроме совсем уж угрюмых идиотов, которые считают, что их, смертных, будут лечить хуже, чем врачуют богатеньких отцов нации. Но ведь отцы нации идут под нож не в Киеве, а где-нибудь в Тель-Авиве или Мюнхене, и конкуренции нашим бедолагам не составляют. Так было и так будет всегда. Мне вот сообщили, что оперироваться нужно срочно. Лучше всего прямо завтра. Я не возражал. Тут уж не до Тель-Авива. Тем более, что о хирурге Руденко говорили, что он кудесник, творит чудеса, а сам кудесник, назначивший вышеописанное дообследование, боялся, что обойтись шунтами не удастся, возможно, понадобится пластика одного из желудочков, а это значит ? сердце придется остановить, уложить его на лед, включить легендарный АИК и начать штопать и перекраивать омертвелый насос, который потом, бывает, и не запускается. Однако теперь стало ясным, что никакой пластики не будет и, следовательно, операция предстоит мне штатная, на работающем сердце, хотя сюрпризы, конечно, возможны. Руденко, подвижный, сухощавый, вроде родоначальника этого заведения Амосова, и абсолютно внятный, вызывал доверие. А если бы и не вызывал, деться все равно было бы некуда. Волноваться в таких случаях бессмысленно. Оставалось уснуть, как можно скорее. Помогли ?Другие берега?. Набоков, которого поразили в начале дороги две неизбежные данности: кромешная тьма до его появления на свет, где содержалось, тем не менее, все сущее, кроме него самого, и тьма, что наступит потом, после его смерти, когда ощущение полноты мира для мириадов сущностей останется тем же, но его нигде не будет, ищи не ищи. Сейчас я, как Набоков, еще оставался в видимой, земной части спектра, но, понимая всю непредсказуемость операции на сердце, видел, что стою на пороге, за которым разлита тьма второго рода. Тьма первого рода меня тоже не пугала: в ней гнездилось ? и это доказывали примеры иных жизней -- достоверное предощущение себя как биологического феномена. Второе состояние могло прийти ко мне в любой миг. Но стоило ли его страшиться? Во-первых, ничего нельзя было изменить. Во-вторых, сдвиг в ничто, наверняка, окажется мгновенным, для меня лишенным значения, ибо произойдет это вне сферы живых чувств. В общем, Набоков оплел меня тончайшей паутиной спекулятивных рассуждений, и это доставило мне странное, болезненное удовольствие. В общем, будь, что будет.
25 октября 2009 года. Отделение реанимации и интенсивной терапии.
Рвотный синдром ? вот с чего начинается реанимация. Сначала трудно понять, где ты и что с тобой происходит. Над тобою плавают неясные лица, глаза заливает жгучая влага, способная, кажется, их выжечь до тла. Зубы сжимают лошадиный мундштук, похоже, пластмассовый. В горле торчит колом жесткая трубка, по которой поступает в легкие кислородная смесь. Но об этом я узнаю потом. А пока ежесекундно давлюсь и захлебываюсь слизью, слюной, пеной. Из поднебесья, откуда исходит яркий свет, доносится голос: ?Не кусайте трубку! Дышите спокойно!? Я пытаюсь делать это, но безуспешно. На два-три вдоха-выдоха приходится спазм в исцарапанном дыхательном горле, судорожная волна поднимается вверх, стремясь вытолкнуть трубку, исторгнуть наружу всю эту забивающую дыхание мерзость. Однако на то, что со мной происходит, никто не обращает внимания. Судя по звукам, доносящимся справа и слева, там происходит нечто подобное с другими людьми, чьи сердца только что ворочали хирурги. Я, стараясь не задохнуться, языком раздвигаю губы и пускаю струю пенящейся слюны в эту щель. Тут снова появляется сильно размытое пекучими слезами лицо. ?Вы видите меня?? Моргаю утвердительно. ?Хорошо. Сожмите мою руку!? Свою я оторвать от кровати, к которой привязан, не могу. В мою вялую ладонь протискивается посторонняя, с воли, и я изо всех сил ее давлю. Слышу: ?Самому дышать рано. Подождем еще с полчаса?. Меня охватывает ужас. Ясно, что я задохнусь. Но до того никому нет дела. Рядом выволакивают из болота наркоза кого-то другого. Я продолжаю захлебываться слизью. Все время пытаюсь нащупать нижний конец дыхательной трубки, чтобы вытолкнуть ее, начать дышать самостоятельно, давлюсь, издавая дикие звуки. Но никто не подходит. Наконец, спустя вечность, я сжимаю чужую ладонь с силой, достаточной, чтобы они там, наверху, поверили в мою способность жить самостоятельно. Для начала перестает тяжело посипывать аппарат принудительной вентиляции легких; в ту же трубку, орудие пытки, всовывают какую-то пластиковую соломину и заставляют втягивать воздух через нее. Дело идет плохо, но идет. А потому отобравшую все мои силы трубу, наконец, вытягивают, освобождают руки и на мою физиономию надевают намордник ? кислородную маску, от которой я сразу взмокаю. Так начинается ирреальная жизнь в отделении реанимации. Поле зрения больного здесь сужено до предела. Кровать-многочлен, которой, однако, сам пациент управлять из-за несовершенства конструкции и упадка сил не может, как ни сопрягай ее части, все равно неудобна. Спинка, на которую опирается под тупым углом болящий, не оставляет никаких надежд удержаться в этом положении с помощью силы трения. Ты все равно неостановимо, по миллиметру-два в минуту, съезжаешь вниз, и ничем не защищенная твоя задница оказывается как раз на стыке двух фрагментов кровати, куда затянута скомканная простыня, постепенно становящаяся в месте соприкосновения с изболевшимся телом твердой и острой, как бритва. На ноги больного брошен и давит нестерпимой тяжестью типичный морской трап, принайтовленный к спинке кровати ? два параллельных витых каната со вплетенными в них на равном расстоянии, отполированными тысячами рук предшественников перекладинами. Распиленную сверху донизу грудину прикрывает лишь марлевая наклейка. Еще одна, более короткая, лежит поперек, перпендикулярно первой. Самая же длинная приклеена к левой ноге, от щиколотки до паха ? отсюда извлекли вену, которую затем нарезали на шунты, сейчас опутывающие сердце. Увидеть все это можно, только скосив глаза, и картина при этом открывается отталкивающая. Из-под повязок на груди, как раз в месте их пересечения, выползают два дренажных шланга, каждый с палец толщиной. Судя по тому, что происходит на соседней кровати (ее можно разглядеть, вывернув шею и чуть приподняв голову, под которой нет подушки), по этим шлангам, погруженным глубоко в рану, под самое сердце, стекает в банку желтовато-коричневая сукровица. Довершает экипировку больного с распоротой грудью тоненький мочевой катетер, уходящий в пластмассовое ведро, установленное под каждой кроватью. Время от времени неторопливые нянечки собирают то, что успело набежать, в общую емкость и куда-то уносят.
Каждый день, проведенный в реанимации, унизителен. Особенно же, когда дежурит смена, которой на тебя наплевать. Смен, которые тебя любят, холят и лелеют, понимая, что ты перенес, вообще не бывает. Здесь это был бы откровенный перебор. Но и среди тех, кто относится к изрезанным пациентам привычно сдержанно, без лишних сантиментов, есть разные люди. Одни эту невольную обузу принимают терпеливо, как данность, другие ? с ненавистью, находящей материальное, физическое выражение в полном пренебрежении своими обязанностями. В моей реанимации на двух больных приходилось по сестре или медбрату. На следующий после того, как я здесь оказался, день мне досталась сестрица со светлым именем Нина, которая почти сразу воткнула в уши наушники плейера, пританцовывая, направилась вглубь зала, к незанятым пока кроватям, и обрела там полную независимость от меня, красно-желтого, как копченый лосось, капризного, издерганного, еще не избавившегося от предоперационных переживаний. Остальные вели себя по отношению к нам примерно так же. Они, несмотря на демонстративную молодость, здоровье и запас жизненных сил, необходимых, чтобы разделить чужую беду, не спать сутками и всегда быть готовыми к чьей-то смерти, были уже в известной степени развращены ощущением полной власти над сердечниками холодного копчения, чьими эмоциями можно безнаказанно пренебречь. Только одна девочка ? Людмила, стеснительное, хрупкое существо с четырьмя месяцами стажа в этом аду, после банального медучилища; хрестоматийная украиночка с четко очерченными полукружьями бровей и мягкой улыбкой, взвалила на себя общую работу и беззлобно, улыбчиво перемещалась между кроватями, угадывая простенькие, но трудно осуществимые в нашем положении желания. Усаживала нас, подавала питье, протирала ноющие спины, отвечала на идиотские вопросы. Меня никто не предупредил о том, что после операции нужно спасать легкие, надувая воздушные шарики, и у меня, естественно, никаких шариков не было, как и родственников, которые могли бы их принести. Тогда Людмила притащила бутылку воды и гофрированную резиновую трубочку. Один конец ее опустила в бутылку, в другой заставила дуть. Я сдвигал кислородную маску на лоб, зажимал зубами трубку и выдувал в нее отвратительную наркозную массу, которая, казалось, продолжает отравой клубиться на дне легких. Сначала слышалось громкое сипение, когда я набирал носом воздух, а потом, на выдохе, ? вспенивалась и долго рокотала вода в бутылке. Таким образом, я стал вровень с теми, у кого здесь была родня, и кому передавали с няньками кульки с минералкой без газа и еще чем-то, о чем я не имел ни малейшего понятия. Водичку в маленькую бутылочку с соском мне отливала тайком из чужих двухлитровых бутылей все та же Люда ? выяснилось, что мне, кроме выпитых в первый день государственных двухсот граммов ?Моршинской?, больше ничего не полагалось. Остальное ? частная инициатива. Так и осталась у меня в памяти, Людмила, сидящая в одиночестве в полутемном реанимационном зале, на сестринском посту, и отчаянно борющаяся со сном, потому что ей нельзя было спать рядом с нами, не смыкающими глаз от боли, затрудненного дыхания, неопределенности, еще не испарившихся страхов и черт знает от чего еще.
1 декабря 2009 года. Палата.
Два великана в одинаковых пальто движутся по длинному больничному коридору. У сына в руках ? многостраничная история болезни, из которой косо выглядывают рентгеновские снимки. Вся фигура отца выражает недоумение. Видимо, только что услышали приговор. Они, уступая друг другу и наклоняя головы, медленно протискиваются в дверной проем. Трудно представить себе, что скоро один из них будет вынужден приспосабливать свои великанские параметры к здешним, усредненно-казенным. А делать нечего. Придется. Самое нелепое и сиротливое в институте Н. М. Амосова ? его маленький (так мне, по крайней мере, показалось) бюст в вестибюле главного корпуса. Я помню пронзительные, круглые, ясные глаза буддийского монаха, освещавшие костистое лицо живого Амосова. Здесь же было скульптурное изображение сильно исхудавшего лысого человека, слепо уставившегося запавшими глазницами на противоположную стену. И все.
Чай с лимоном в тонком стакане, утопленном в литой подстаканник, под перестук вагонных колес? Что может быть лучше и вкуснее!
Изрезанная грудь болит, я то и дело кашляю, тяжело, надрывно, чуть ли не до потери сознания; РОЭ не опускается; болят, кажется, все штопки на сердце, а меня не оставляет ощущение (особенно ночью), что я все еще где-то далеко от дома, что должна приехать мама, что именно тогда-то все станет на свои места, и я начну выздоравливать. Но мать никак не приезжает. Задница до того затвердела, что иголка гнется. И конца этому не предвидится.
5 декабря 2009 года. Палата.
В России даже прохудившийся чайник скоро будет квалифицироваться как пример возможного теракта, следы которого тянутся в Украину или Грузию. Мой старый знакомый, который перед моим отъездом на операцию куда-то пропал и всплыл только месяц спустя, не стал тратить времени на сочувственные охи да ахи. Он оценивающе посмотрел на себя и весомо произнес: ?Молодец! Ты успел. А другие не успеют!? Я сразу почувствовал себя перед ним виноватым.
Любопытные у меня после операции сны. Пересказать их невозможно, даже в самых общих чертах. Там действуют персонажи из моей прошлой жизни или совсем незнакомые люди. Их мимика, поступки, эмоции носят нормальный, типический характер, но направлены эти реакции на предметы, у которых нет ни имени, ни завершенных форм, ни логики существования. Иными словами, в этих снах я и мое окружение взаимодействуем ? принимаем решения, радуемся, огорчаемся, иногда обманываем себя, что-то драматизируем -- вполне предсказуемо. Но то неопределенное, с чем мы контактируем, не имеет нормального, земного выражения. Это, скорее, невероятное сочетание несочетаемого, к чему мы, однако, относимся во снах вполне спокойно, как будто ничего экстраординарного не происходит.
6 декабря 2009 года. Палата.
По-моему, наступает перелом. Всю ночь продирался через какие-то, опять-таки, неописуемые, препятствия. Затем уснул в состоянии неравновесного покоя, боясь пошевелиться, чтобы не накатил вновь приступ кашля, от которого начинает пощелкивать в несросшейся грудине и нарастает утомительная, нудная боль. Проснулся не то чтобы свежим, но без вчерашнего обморочного пессимизма. Посмотрим, что будет дальше. Пришла сестра. Измерила давление. Делала это неумело. Рука была напряжена. Получилось 130 на 80, чего быть не может. Посмотрим, что намеряет врач. Вот такие теперь у меня заботы. За окном ? задворки поликлиники, потом ? высоченные новые дома, еще незаселенные, а между ними ? неоспоримая ясность клочка земли, густо усыпанного снегом. Смотрю на это, словно впервые. Врач на сдельщине ? наша страховая медицина. Когда благополучие эскулапа зависит от числа пациентов, которых он успевает через себя пропустить, опасность быть залеченным до смерти снижается до нуля.
Страшно даже подумать, какое несчастье должно было произойти с православным священником, чтобы он расстрелял свою семью и покончил с собой. Дочь замуровала маму в пристройке к дому со словами: ?Живи там, как мумия?. Мать не протестовала. Мумия, так мумия. Главное, дочку не обидеть. Прокурор купил квартирку в Баден-Бадене. Когда его накрыли, уволился, как сам говорит, для того, чтобы досужие журналисты и депутаты из другого политического лагеря не шельмовали прокурорское сословие. Его можно понять. Он украл уже столько, что оставаться на прежнем месте давно не имело смысла. Теперь его могла бы удовлетворить лишь президентская должность. Но жалко денег, которые пришлось бы отдать за регистрацию в кандидаты. Карантин в преддверии новой волны гриппа, вместо школьных занятий. Прекрасное решение общеобразовательной задачи на национальном уровне. Особенно в разгар отопительного сезона. Можно ли зарезать человека из-за килограмма пельменей? Оказывается, можно. В конце 2009-го. На острове ?Крым?. Накануне войны.
10 декабря 2009 года. Палата.
Судя по статистике, мы вымираем со скоростью в 180 тысяч человек в год. Я выжил. И, значит, нарушил закономерность. Любопытно, чем это для меня обернется? А вот чем ? душит кашель, мелкий, суховатый, спазматический, на выдохе. Дескать, нечего идти против ветра. Положено откинуть коньки, откидывай и не кроши батон. Наверное, если тебя ломает жизнь, надо сломаться и не сопротивляться. Что я против дурных генов, против судьбы, которая подписала мне приговор? Школьник, эстонец из "Рассказа о семи повешенных" Андреева. У Андреева они умирали красиво, даже романтично. А что, если попробовать? Ведь человек при повешении, как в кино показывают, умирает мгновенно. Шея ломается и конец. Быстрый и безболезненный. Так зачем ждать? Это государство не умеет лечить, но умеет мучить. А я не скотина, которую используют как подопытный объект.
12 декабря 2009 года. Палата. Последняя запись в дневнике самоубийцы.
Выбор сделан... Можно было бы порассуждать о нем с задумчивостью Сенеки... Но какой смысл? Хочется забиться в угол и плакать, как плачет ребенок, которого избивали всю его недолгую жизнь родители... Жизнь плоха, жить больно, да и незачем. Люди без сердца не живут, а тут сердца восстанавливать не умеют. У меня растет РОЭ, возможен перикардит. Это смерть, но мучительная. А стоит ли ждать?
13 декабря наступила развязка. Дмитрий К., до 30-летия которому оставалось всего 2 неполных месяца, привязал к шее веревку и повесился на крюке в туалете отделения. Медсестры даже не хватились, когда пациента не обнаружили в палате. Холодный труп обнаружил случайный больной, который пошел утром в туалет.
На похороны пришел почти весь коллектив Полюстровского отделения Петроагробанка. Было очень страшно, жалко, хотелось плакать от безысходности. Общество умеет сопереживать лишь тогда, когда человек кричит о своей боли. Когда видит куски разорванных тел на месте теракта, видит кровь и ужас необъявленной войны. Сотни больных в России сводят счеты с жизнью лишь потому, что государственная медицина не может и не хочет им помочь. Об этих трагедиях не пишут СМИ, да и нет в этом необходимости для государства, где ценность человеческой жизни - ноль, если ты обычный рабочий, водитель, кассир, педагог, милиционер. Что еще должно произойти, чтобы этот круг равнодушия разорвался?
С
Созерцатель
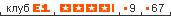
Дмитрия К. лечили врачи Института Амосова
а надо было лечить в клинике Кащенко
P
Power81
Перечитал текст - не понял - чем болеет автор?
m
murmoshka
Это социальная публицистика, типа "не могу молчать".
m
murmoshka
Почему в клинике Кащенко?
P
Power81
Так чем болел автор???
a
aligar

Почему в клинике Кащенко?
потому что пациент был дебилом и нуждался в лечении психики
M
Milena27
В чем шок то?Не поняла. Ну очередной слабак, который не смог справиться со своей болезнью. В больничке плохо ему лежалось. А онкологически больным лучше что ли? Один курс химиотерапии чего стоит.
Г
Грэмми
Вам заняться чтоли нечем????? Каждый пост хуже другого . У вас мозг вообще видимо не занят никакими проблемами.займитесь лучше полезными вещами. Создайте тему "Втанеки"
А
АВ: [А][Вэ]

Тонкой душевной организации этот дневникописатель человек. Был.
И эта постянная отсылка к грудничкам. Ну у меня сын грудничок и чего. Такой же человек, только маленький. И родители у него такие же как все люди. Если что-то надо - взяли себя и его в охабку и побежали как сами, бюез него. Даже эрегичнее.
И эта постянная отсылка к грудничкам. Ну у меня сын грудничок и чего. Такой же человек, только маленький. И родители у него такие же как все люди. Если что-то надо - взяли себя и его в охабку и побежали как сами, бюез него. Даже эрегичнее.
B
Black_Cat_Bones
Каждый день, проведенный в реанимации, унизителен. Особенно же, когда дежурит смена, которой на тебя наплевать. Смен, которые тебя любят, холят и лелеют, понимая, что ты перенес, вообще не бывает.
Вот странное искажение действительности. Какое там ухаживание и холенье и лилеянье в реанимации? Видела сама этих бедных сестер, замыленных, заезженных. Какие там к черту эмоции, работа и только, и ничего личного. Иначе просто свихнуться можно.
х
хентай
Хорошо написано, местами интересно...но силы воли у человека не оказалось, пошел по самому "примитивно легкому" пути
p
pivoner™
забаньте уже автора
M
My name is Bob...Sponge Bob

ктот умер чтоли
х
хентай
Вадег не ерничай
W
W.A.S.P. [ ASTM F 899-12 ]

афтар кормит нас каким то негативом!!!!!!!!!!!!!
к
кофе исключительно со сливками
латентный гот.
люди таких операций ждут, чтоб начать жить, а этот чот расклеился
люди таких операций ждут, чтоб начать жить, а этот чот расклеился
в
вcякое бываeт
ща придет модер, через 20 дней опубликуешь дневник человека в бане
а
акулолов
Не осилила все. Поняла, что так делать не надо.
О
Очень злые коты
аффтор дневника - рафинированный подросток по уровню развития
Д
Джамелия
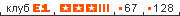
очень похоже на записки человека, больного шизофренией
А
АВ: [А][Вэ]

Петроагробанка
Банка стати такого нет.
T
Talya*

Думаю, сама атмосфера больницы подкосила. Я помню- равнодушие, хамство, швы как на трупе, грязь, холод. Только это вызывало желание перенести все и выйти из этого кошмара туда, где тепло и не больно.
безумие, он просто сошел с ума. Как и автор дневника
какое несчастье должно было произойти с
православным священником, чтобы
он расстрелял свою семью и покончил с собой
он расстрелял свою семью и покончил с собой
безумие, он просто сошел с ума. Как и автор дневника
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.