Мега-тренинг "Свобода совести"
Буквицы сии зело многочисленны. Летопись не читаше, но бояре глаголют - не лепо!
f
fish matilda
прекратите банить пользователя egegey !!!!!
рассказы восстановил
модератор ушёл с фроловым в декретный отпуск
За столом в одной из комнат клуба сидели оставшиеся члены и, попивая сбитень, мирно беседовали.
- А и тошнехонько же тут, а и скучнехонько же, добрые молодцы, - заметил граф Стенбок.
- Ой, ты гой еси, добрый молодец, - возразил барон Кригс. - Не тяни хоть ты нашу душеньку. Не пригоже тебе тако делати...
Один рыжий националист вздохнул и сказал:
- О, это, гой еси, по та пришина, что русский шеловек глюп! Немецки шеловек устроил бы бир-галле мит кегельбан, и было бы карашо.
- Тощища, гой, еси. А что, добры молодцы, может, телеграмму приветственную Плевицкой спослать?
- А по какому случаю? Вчера ведь посылали.
- Да так послать. А то что ж так сидеть-то?
- Не гоже говоришь ты, детинушка. Просто надо бы концерт какой-нибудь устроить.
- Нужно говорить не концерт, а посиделки.
- Добро! А ежели с танцами, то как!
- С хороводом, значит, гой еси.
- О, боже ж, как тошнехонько!
В это время в комнату вошел новый националист.
- Здравствуйте, господа! Записался нынче я в ваш союз и в клуб. Принимаете?
Барон Кригс встал, поклонился гостю в пояс и сказал, тряхнув пробором:
- Исполать тебе, добрый молодец.
- Чего-с?
- Говорю: исполать.
Гость удивился.
- Из... чего?
- Исполать, - неуверенно повторил барон Кригс.
- Из каких полать?
- Не из каких. Это слово такое есть... русское... Мы ж националисты.
- Какой черт, русское, -- пожал плечами гость. - Это слово греческое... Еще поют "Исполайте деспота!".
- А не русское? Вот тебе раз.
Барон снова поклонился гостю в пояс и сказал:
- А и как же тебя, детинушка, по имени, по изотчеству? Как кликати, детинушка, себя повелишь?
- Какие вы... странные. Меня зовут Семен Яковлевич!
- А и женат ли ты? А и есть ли у тебя жена красна девица - душа, со теми ли со деточками-малолеточками?
- Да, я женат. Гм!.. Что это у вас, господа, такое унылое настроение?
Барон Шлиппенбах покачал головой и сказал:
- А и запала нам в душу кручинушка. Та ли кручинушка, печалушка. Бегут из того ли союза нашего люди ратные и торговые и прочий народ, сочинительствующий, аще скоро ни одному не остатися. Эх, да что там говорить!.. А и могу ли я гостя дорогого посадити за скатерть самобранную и угостити того ли гостя сбитнем нашим русским.
- А и угостите, - согласился гость.
- А и не почествовати ли гостюшку нашего ковшиком браги пенной?
- А и ловко придумано.
- То ли какую марку гость испить повелит?
- То ли брют-америкен.
- Дело! Эй, кравчий! А и тащи же ты сюда вина фряжского, того ли брют-америкену.
Подали шампанского. Когда вино запенилось в деревянных ковшах, барон Вурст встал и сказал:
- Не велите казнить, велите слово молвить!
- Не бойся, не казним! Жарь дальше.
- То не заря в небе разгоралася, то не ратные полки на ворога нехрещенного двинулись! То я, барон Вурст, пью за то, чтобы матушка наша Россия была искони национальной и свято блюла те ли заветы старинные! А и крепка еще матушка наша Россия русским духом! А и подниму я свою ендову, выпью ее единым духом за нашу матушку и скажу то ли слово вещее: канун да ладан...
- То ли дурак ты, братец. При чем тут канун да ладан?.. Раз немец, не суйся говорить. Нешто это к месту?
- Милль пардон! Я что-то, кажется, действительно... А это, знаете, так красиво: канун да ладан! Ма foi!
- Не вели казнить, вели слово молвить, который теперь час?
- А и то ли восемь часов, да еще и с половинушкой.
- Ах, господа! А я еще обещал быть во тереме барона Шуцмана на посиделках. Ужасно трудно соблюдать национальные обычаи.
- И не говорите! - вскричал барон Вурст. - Вчера мы устроили русский обед и по обычаю тому ли русскому - пробовали лаптем щи хлебать. Ужасно неудобно. Капает на брюки, протекает, а капусту из носка лаптя приходится вилкой выковыривать.
- О, русски народ - глюпи шеловек. Ми тоже позавчерась пробовал сделайт искони русски свичай-обичай: лева ногой сморкаться. Эта таки трудни номер.
- Виноват, - возразил новоприбывший националист. - Вы немного напутали. Действительно, у русского народа есть такие выражения, но они имеют частицу отрицания "не". Говорят: "я тоже не левой ногой сморкаюсь", или: "мы не щи хлебаем".
- А, черт возьми, действительно, верно! Какой удар! Однако ты, гой еси, детинушка, действительно, хорошо знаешь русский свычай-обычай.
- Еще бы! Да вот вы, например, все время твердите, как попугай: гой еси, да гой еси! А вы знаете, что гой - это еврейское слово? Гой по-еврейски значит - христианин?
Из угла вдруг поднялся молчавший до сих пор угрюмый националист.
- А и куда же ты, детинушка, собрался?
- А и ну вас всех к черту. Думал я, что по-русски мы живем и разговариваем по-нашему, по-исконному, а тут тебе и по-греческому, и по-жидовскому, и щи лаптем хлебают, и левой ногой сморкаются... Исполать вам, гой еси, чтоб вы провалились.
- Пойдем и мы, - сказали двое мрачных людей.
Вздохнули, потоптались на месте и ушли.
- И хорошо, что ушли, - воскликнул старшина. - Все равно не надежны были. Зато теперь остался самый настоящий националист, крепкий. Ребятушки, чем займемся?
- Да чем же... давайте телеграмму Плевицкой пошлем.
- А и дело говорите. Исполать вам. Пишите. "Ой-ты, гой еси, наша матушка Надежда ли Васильевна! Земно кланяемся твоему истинно национальному дарованию и молчим на мнагая лета тебе на здоровьица на погибель инородцам. Поднимаем ендову самоцветную с брагой той ли шипучей!"
модератор ушёл с фроловым в декретный отпуск
Буквицы сии зело многочисленны. Летопись не читаше, но бояре глаголют - не
лепо!
За столом в одной из комнат клуба сидели оставшиеся члены и, попивая сбитень, мирно беседовали.
- А и тошнехонько же тут, а и скучнехонько же, добрые молодцы, - заметил граф Стенбок.
- Ой, ты гой еси, добрый молодец, - возразил барон Кригс. - Не тяни хоть ты нашу душеньку. Не пригоже тебе тако делати...
Один рыжий националист вздохнул и сказал:
- О, это, гой еси, по та пришина, что русский шеловек глюп! Немецки шеловек устроил бы бир-галле мит кегельбан, и было бы карашо.
- Тощища, гой, еси. А что, добры молодцы, может, телеграмму приветственную Плевицкой спослать?
- А по какому случаю? Вчера ведь посылали.
- Да так послать. А то что ж так сидеть-то?
- Не гоже говоришь ты, детинушка. Просто надо бы концерт какой-нибудь устроить.
- Нужно говорить не концерт, а посиделки.
- Добро! А ежели с танцами, то как!
- С хороводом, значит, гой еси.
- О, боже ж, как тошнехонько!
В это время в комнату вошел новый националист.
- Здравствуйте, господа! Записался нынче я в ваш союз и в клуб. Принимаете?
Барон Кригс встал, поклонился гостю в пояс и сказал, тряхнув пробором:
- Исполать тебе, добрый молодец.
- Чего-с?
- Говорю: исполать.
Гость удивился.
- Из... чего?
- Исполать, - неуверенно повторил барон Кригс.
- Из каких полать?
- Не из каких. Это слово такое есть... русское... Мы ж националисты.
- Какой черт, русское, -- пожал плечами гость. - Это слово греческое... Еще поют "Исполайте деспота!".
- А не русское? Вот тебе раз.
Барон снова поклонился гостю в пояс и сказал:
- А и как же тебя, детинушка, по имени, по изотчеству? Как кликати, детинушка, себя повелишь?
- Какие вы... странные. Меня зовут Семен Яковлевич!
- А и женат ли ты? А и есть ли у тебя жена красна девица - душа, со теми ли со деточками-малолеточками?
- Да, я женат. Гм!.. Что это у вас, господа, такое унылое настроение?
Барон Шлиппенбах покачал головой и сказал:
- А и запала нам в душу кручинушка. Та ли кручинушка, печалушка. Бегут из того ли союза нашего люди ратные и торговые и прочий народ, сочинительствующий, аще скоро ни одному не остатися. Эх, да что там говорить!.. А и могу ли я гостя дорогого посадити за скатерть самобранную и угостити того ли гостя сбитнем нашим русским.
- А и угостите, - согласился гость.
- А и не почествовати ли гостюшку нашего ковшиком браги пенной?
- А и ловко придумано.
- То ли какую марку гость испить повелит?
- То ли брют-америкен.
- Дело! Эй, кравчий! А и тащи же ты сюда вина фряжского, того ли брют-америкену.
Подали шампанского. Когда вино запенилось в деревянных ковшах, барон Вурст встал и сказал:
- Не велите казнить, велите слово молвить!
- Не бойся, не казним! Жарь дальше.
- То не заря в небе разгоралася, то не ратные полки на ворога нехрещенного двинулись! То я, барон Вурст, пью за то, чтобы матушка наша Россия была искони национальной и свято блюла те ли заветы старинные! А и крепка еще матушка наша Россия русским духом! А и подниму я свою ендову, выпью ее единым духом за нашу матушку и скажу то ли слово вещее: канун да ладан...
- То ли дурак ты, братец. При чем тут канун да ладан?.. Раз немец, не суйся говорить. Нешто это к месту?
- Милль пардон! Я что-то, кажется, действительно... А это, знаете, так красиво: канун да ладан! Ма foi!
- Не вели казнить, вели слово молвить, который теперь час?
- А и то ли восемь часов, да еще и с половинушкой.
- Ах, господа! А я еще обещал быть во тереме барона Шуцмана на посиделках. Ужасно трудно соблюдать национальные обычаи.
- И не говорите! - вскричал барон Вурст. - Вчера мы устроили русский обед и по обычаю тому ли русскому - пробовали лаптем щи хлебать. Ужасно неудобно. Капает на брюки, протекает, а капусту из носка лаптя приходится вилкой выковыривать.
- О, русски народ - глюпи шеловек. Ми тоже позавчерась пробовал сделайт искони русски свичай-обичай: лева ногой сморкаться. Эта таки трудни номер.
- Виноват, - возразил новоприбывший националист. - Вы немного напутали. Действительно, у русского народа есть такие выражения, но они имеют частицу отрицания "не". Говорят: "я тоже не левой ногой сморкаюсь", или: "мы не щи хлебаем".
- А, черт возьми, действительно, верно! Какой удар! Однако ты, гой еси, детинушка, действительно, хорошо знаешь русский свычай-обычай.
- Еще бы! Да вот вы, например, все время твердите, как попугай: гой еси, да гой еси! А вы знаете, что гой - это еврейское слово? Гой по-еврейски значит - христианин?
Из угла вдруг поднялся молчавший до сих пор угрюмый националист.
- А и куда же ты, детинушка, собрался?
- А и ну вас всех к черту. Думал я, что по-русски мы живем и разговариваем по-нашему, по-исконному, а тут тебе и по-греческому, и по-жидовскому, и щи лаптем хлебают, и левой ногой сморкаются... Исполать вам, гой еси, чтоб вы провалились.
- Пойдем и мы, - сказали двое мрачных людей.
Вздохнули, потоптались на месте и ушли.
- И хорошо, что ушли, - воскликнул старшина. - Все равно не надежны были. Зато теперь остался самый настоящий националист, крепкий. Ребятушки, чем займемся?
- Да чем же... давайте телеграмму Плевицкой пошлем.
- А и дело говорите. Исполать вам. Пишите. "Ой-ты, гой еси, наша матушка Надежда ли Васильевна! Земно кланяемся твоему истинно национальному дарованию и молчим на мнагая лета тебе на здоровьица на погибель инородцам. Поднимаем ендову самоцветную с брагой той ли шипучей!"
A
Alex111111
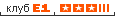
он вырнулся...
Я прислушался... Из передней донесся голос моей горничной:
-- Барин дома, но очень занят.
Другой голос приветливо согласился.
-- Ага... Так, так. Это хорошо. Ну, пусть себе занимается. Я мешать не буду. Доложите, что я хочу его видеть...
-- Да барин занят. Пишет.
-- Ну, вот и хорошо. Наверное, какую-нибудь забавную вещь пишет. Скажите, что я хочу его видеть...
-- Барин сказал, что его отрывать нельзя.
-- Да я и не оторву. Ей Богу. Только десять минут. Желает, мол, видеть его Сельдяев. Он меня примет.
-- А они сказали, что никого не будут принимать,
-- Ну да. Вообще. А я Сельдяев.
Голос у него был кроткий, убедительный, как у человека, который погряз с головой в разных деликатностях.
-- Не знаю уж, как и быть.
-- Вы только скажите ему, что я из провинции.
Этого он мог бы и не говорить. Весь предыдущий разговор достаточно убедил меня в этом. Я с силой бросил перо на письменный стол, вскочил, выбежал в переднюю и, заложив руки
-- Что?
-- Мамочка! -- закричал он, умиленный. -- Не узнает! Вот смехи-то... Сельдяева не узнал. Да какая же жизнь после этого... Дайте-ка я перво-наперво вас облобызаю.
Он привлек меня к себе, a горничная в это время стаскивала с его плеч шубу. Вышло так, что мы спутались в один странный комок, состоящий из горничной, Сельдяева, шубы его и меня.
-- Простите, не узнаю, -- пролепетал я, прижимая Сельдяева к сердцу.
-- Сельдяева-то? Помните, вы в Армавире у нас читали лекцию, a я зашел приветствовать вас от имени армавирского общества любителей таксомоторной езды. Еще после мы с Гугенбергом и Чухалиным вас на таксомоторе возили, город показывали. Кстати, знаете, Чихалин-то... Кинематограф открывает в Армавире.
-- Что вы говорите! -- деликатно поразился я. -- Это неслыханно! Кто бы мог подумать... Эх, Чихалин, Чихалин... Не выдержала русская душа окружающей беспросветной мглы... Садитесь.
-- Сяду. Я ведь вам мешать не буду. У меня только одна просьба: покажите мне ваш Петроград.
Я поглядел на Сельдяева; взглянул на неоконченную рукопись. Первый, все равно, не отстанет; вторую, все равно, окончить не удастся.
-- Пойдем, -- сказал я.
-- А работа? Вы не беспокойтесь, пишите. Я минуточек пять подождать могу.
-- Что вы! Тут работы часа на два.
-- Ну, тогда, конечно, бросьте. Хе-хе... Сельдяевы не каждый день в Петроград приезжают. Верно?
-- Пойдем.
Мы оделись и вышли.
-- Вот это Невский проспект, -- сказал я приостановившись, чтобы полюбоваться на его ошеломленное лицо.
Однако, лицо его было спокойно, как морской залив в тихое летнее воскресенье.
-- Невский?.. Так, так. Далеко тянется?
-- Верст десять!
Я опять искоса взглянул на него.
-- Десять? Так. Но это в обе стороны?
"Нет, -- подумал я, -- улицей его не удивишь. А что ты, голубчик, запоешь, когда увидишь Казанский собор?!.".
-- Это вот Казанский собор. Каково, а? Хотите внутрь зайти?
-- Нет, зачем же, -- пожал он плечами. -- Собор как собор.
-- Ну, не скажите... Колонны-то все таки... Видали, какие?
-- Да, серые. Сто штук будет?
-- Что вы, -- сказал я, и хотел добавить: "меньше" но потом решил ошеломить его.
-- Больше! Около трехсот.
-- С каждой стороны или в общем?
Я резко повернулся:
-- Пойдем.
Желание поразить этого человека пропало во мне. Я вяло водил его за руку и не менее вяло указывал вялым пальцем:
-- Исаакиевский собор. Полтораста миллионов обошелся.
Сельдяев значительно поджимал губы и, подняв одну бровь, спрашивал:
-- С землей или без земли?
-- А это вот Нева. Видите?
Он перегнулся через перила и стал рассматривать реку так, будто бы хотел разглядеть какое-то насекомое, ползущее внизу.
-- Это вот Нева и есть?
-- Нева. Кажется, что не широка, a на самом деле обман зрение: пять верст!
Никакого изумление не отпечатлелось на его лице.
-- Ну, вода-то здесь, говорят, ядовитая, -- задумчиво опершись о перила, промямлил он.
-- Вода? Страшно ядовитая. На один кубический сантиметр воды четыре миллиарда бактерий. Ежели нападут все вместе, человека растерзать могут.
-- Так, так. А эта штучка там торчит -- что это такое?
-- Где?
-- Вот эта. Кривая какая-то.
-- Это -- Троицкий мост! (Мы стояли от него в ста шагах). Хорошая "штучка"!.. Одна постройка обошлась полтораста милл... (все равно!) миллиардов.
-- Все-таки, он металлический?
-- А вы какой же хотели?
-- Да нет, я так. Мне все равно. Металлический так металлический.
Я призадумался.
-- Когда кессоны устанавливали, -- около трех тысяч народу погибло. Это был единственный раз, когда он изменил себе, заметив:
-- Ну, на такой большой мост неудивительно, -- что столько народу пошло.
Я сразу погас, потух, обессилел и побрел, еле перебирая ногами и неохотно влача Сельдяева за руку.
Были впереди еще -- музеи, памятники, вся красота и мощь Петрограда. Но -- что это все Сельдяеву? Я решил не церемониться с ним.
* * *
Мы шли по какой-то неизвестной мне узкой улице; я указал на серый двухэтажный дом и значительно сказал:
-- Самый знаменитый дом в Петрограде
-- А что?
-- Здесь Пушкин написал своего "Евгения Онегина".
-- Пушкин? -- переспросил Сельдяев. -- Александр Сергеевич?
-- Да.
-- Он тут что же... всегда жил или так только... Для "Онегина" поселился?
-- Специально для "Онегина". Заплатил за квартиру двадцать тысяч.
Печать холодного равнодушие лежала на каменном лице Сельдяева.
-- Вы что же думаете, -- сурово спросил я -- Что прежние 20 тысяч все равно, что теперешние? Теперь это нужно считать в 50 тысяч!
-- Гм... да! А он за "Онегина"-то много получил?
Я бухнул:
-- Около трехсот тысяч.
-- Ну, тогда, значит, -- рассудительно заметил Сельдяев, -- ему можно было за квартиру такие деньги платить.
Мы, молча зашагали дальше.
-- А вот этот дом -- видите? Тут несколько лет тому назад произошла страшная драма: один молодой человек вырезал обитателей четырех квартир.
-- Это сколько-ж народу?
-- Да около так... пятидесяти человек.
Он осмотрел фасад и спросил:
-- В один день?
-- А то как же?
-- Этак, пожалуй, и не успеешь, если без помощников. За что же он их?
-- Из мести. Они съели его любимую невесту.
Сельдяев качнул головой.
-- Людоеды, что ли?
-- Нет!! -- отрезал я, дрожа от негодования. -- Это был такой клуб, где ради забавы каждый день ели по человеку. И полиция молчала, потому что ей платили около трех миллионов в год.
-- Рублей?
-- Нет, фунтов стерлингов!!! В фунте -- 9 рублей 60 копеек.
-- Английские фунты?
-- Да! Да!
Он улыбнулся краешком рта.
-- Гм! Просвещенные мореплаватели...
* * *
-- Стойте! Вот дом, который вас позабавит. Здесь помещается питомник полицейских собак. Есть тут одна собака Фриц, которая не только разыскивает преступников, но и допрашивает их.
-- Овчарка? -- спросил он, оглядев фасад.
-- Чёрт ее знает!! Недавно захожу я сюда, a она сидит за столом и спрашивает какого-то парня:
"Как же вы говорите, что были в тот вечер на Выборгской стороне, когда я нашла ваши следы на лестнице дома Гороховой улицы?" Так парень на колени. "Ваше высокородие! Не велите казнить, велите слово молвить!.. Так точно, повинюсь перед вами".
-- Да, да. -- сказал Сельдяев, шумно вздыхая. -- Читал и я, что где-то в цирке показывали собаку, которая разговаривает; потом кошку... тоже. Показывали... которая разговаривает...
Я погасил искорку ненависти, мелькнувшую у меня в глазах, и сказать, хлопнув его по плечу:
-- Так слушайте, что же дальше! Собака, значить, к нему: "А так, ты сознаешься?!" -- Так точно. Только вот что, ваше высокородие; так как говорим мы глаз-на-глаз, то разделимся по совести. Я вам бриллиантовые сережки отдам, что украл, a вы меня отпустите..." И кладет перед ней серьги. Собака только плечами пожала: "куда мне они... Ведь всем ювелирам приметы и описание сережек разосланы. Попадусь еще... Есть у тебя рублей пятьдесят наличными -- так дай. Тогда чёрт с тобой, иди куда хочешь". -- "Тридцать пять есть!" -- "Ну, ладно, давай, да сережки то не здесь сбывай, a где-нибудь в Берлине или Дрездене!" Опустила деньги в карман да прочь со стола.
Сельдяев выслушал меня, и в глазах его мелькнула тень интереса к моему рассказу.
-- Да откуда ж у неё карман?
-- Карман сюртука. Они ведь одеваются в форменные сюртуки. Шашка. Сапоги. Свисток. Жалованье 11 рублей с полтиной.
Но Сельдяев снова погас. Взял меня под руку и спросил:
-- Ну, a что тут у вас, вообще, в Петрограде интересного?
-- Вы лучше расскажите, что у вас слышно в Армавире?
Он остановился, обернулся ко мне, и лицо его сразу оживилось.
-- Да ведь я вам и забыл сказать: вот будете поражены... Ерыгина помните?
-- Не помню.
-- Ну, как же. Так можете представить, этот Ерыгин решил ехать в Сибирь! Нашел в Иркутске магазин, который ему передали на выгодных условиях -- и переезжать туда... Не чудак ли?.. Что вы на это скажете? !
И он залился закатистым смехом.
-- Господи Иисусе! Кто бы мог подумать! -- воскликнул я и вслед за ним залился смехом.
Как это часто бывает, смеялись мы по разным поводам.
http://fedpress.ru/federal/econom/tek/id_151962.ht...
великое открытие в области физики
-- Барин дома, но очень занят.
Другой голос приветливо согласился.
-- Ага... Так, так. Это хорошо. Ну, пусть себе занимается. Я мешать не буду. Доложите, что я хочу его видеть...
-- Да барин занят. Пишет.
-- Ну, вот и хорошо. Наверное, какую-нибудь забавную вещь пишет. Скажите, что я хочу его видеть...
-- Барин сказал, что его отрывать нельзя.
-- Да я и не оторву. Ей Богу. Только десять минут. Желает, мол, видеть его Сельдяев. Он меня примет.
-- А они сказали, что никого не будут принимать,
-- Ну да. Вообще. А я Сельдяев.
Голос у него был кроткий, убедительный, как у человека, который погряз с головой в разных деликатностях.
-- Не знаю уж, как и быть.
-- Вы только скажите ему, что я из провинции.
Этого он мог бы и не говорить. Весь предыдущий разговор достаточно убедил меня в этом. Я с силой бросил перо на письменный стол, вскочил, выбежал в переднюю и, заложив руки
-- Что?
-- Мамочка! -- закричал он, умиленный. -- Не узнает! Вот смехи-то... Сельдяева не узнал. Да какая же жизнь после этого... Дайте-ка я перво-наперво вас облобызаю.
Он привлек меня к себе, a горничная в это время стаскивала с его плеч шубу. Вышло так, что мы спутались в один странный комок, состоящий из горничной, Сельдяева, шубы его и меня.
-- Простите, не узнаю, -- пролепетал я, прижимая Сельдяева к сердцу.
-- Сельдяева-то? Помните, вы в Армавире у нас читали лекцию, a я зашел приветствовать вас от имени армавирского общества любителей таксомоторной езды. Еще после мы с Гугенбергом и Чухалиным вас на таксомоторе возили, город показывали. Кстати, знаете, Чихалин-то... Кинематограф открывает в Армавире.
-- Что вы говорите! -- деликатно поразился я. -- Это неслыханно! Кто бы мог подумать... Эх, Чихалин, Чихалин... Не выдержала русская душа окружающей беспросветной мглы... Садитесь.
-- Сяду. Я ведь вам мешать не буду. У меня только одна просьба: покажите мне ваш Петроград.
Я поглядел на Сельдяева; взглянул на неоконченную рукопись. Первый, все равно, не отстанет; вторую, все равно, окончить не удастся.
-- Пойдем, -- сказал я.
-- А работа? Вы не беспокойтесь, пишите. Я минуточек пять подождать могу.
-- Что вы! Тут работы часа на два.
-- Ну, тогда, конечно, бросьте. Хе-хе... Сельдяевы не каждый день в Петроград приезжают. Верно?
-- Пойдем.
Мы оделись и вышли.
-- Вот это Невский проспект, -- сказал я приостановившись, чтобы полюбоваться на его ошеломленное лицо.
Однако, лицо его было спокойно, как морской залив в тихое летнее воскресенье.
-- Невский?.. Так, так. Далеко тянется?
-- Верст десять!
Я опять искоса взглянул на него.
-- Десять? Так. Но это в обе стороны?
"Нет, -- подумал я, -- улицей его не удивишь. А что ты, голубчик, запоешь, когда увидишь Казанский собор?!.".
-- Это вот Казанский собор. Каково, а? Хотите внутрь зайти?
-- Нет, зачем же, -- пожал он плечами. -- Собор как собор.
-- Ну, не скажите... Колонны-то все таки... Видали, какие?
-- Да, серые. Сто штук будет?
-- Что вы, -- сказал я, и хотел добавить: "меньше" но потом решил ошеломить его.
-- Больше! Около трехсот.
-- С каждой стороны или в общем?
Я резко повернулся:
-- Пойдем.
Желание поразить этого человека пропало во мне. Я вяло водил его за руку и не менее вяло указывал вялым пальцем:
-- Исаакиевский собор. Полтораста миллионов обошелся.
Сельдяев значительно поджимал губы и, подняв одну бровь, спрашивал:
-- С землей или без земли?
-- А это вот Нева. Видите?
Он перегнулся через перила и стал рассматривать реку так, будто бы хотел разглядеть какое-то насекомое, ползущее внизу.
-- Это вот Нева и есть?
-- Нева. Кажется, что не широка, a на самом деле обман зрение: пять верст!
Никакого изумление не отпечатлелось на его лице.
-- Ну, вода-то здесь, говорят, ядовитая, -- задумчиво опершись о перила, промямлил он.
-- Вода? Страшно ядовитая. На один кубический сантиметр воды четыре миллиарда бактерий. Ежели нападут все вместе, человека растерзать могут.
-- Так, так. А эта штучка там торчит -- что это такое?
-- Где?
-- Вот эта. Кривая какая-то.
-- Это -- Троицкий мост! (Мы стояли от него в ста шагах). Хорошая "штучка"!.. Одна постройка обошлась полтораста милл... (все равно!) миллиардов.
-- Все-таки, он металлический?
-- А вы какой же хотели?
-- Да нет, я так. Мне все равно. Металлический так металлический.
Я призадумался.
-- Когда кессоны устанавливали, -- около трех тысяч народу погибло. Это был единственный раз, когда он изменил себе, заметив:
-- Ну, на такой большой мост неудивительно, -- что столько народу пошло.
Я сразу погас, потух, обессилел и побрел, еле перебирая ногами и неохотно влача Сельдяева за руку.
Были впереди еще -- музеи, памятники, вся красота и мощь Петрограда. Но -- что это все Сельдяеву? Я решил не церемониться с ним.
* * *
Мы шли по какой-то неизвестной мне узкой улице; я указал на серый двухэтажный дом и значительно сказал:
-- Самый знаменитый дом в Петрограде
-- А что?
-- Здесь Пушкин написал своего "Евгения Онегина".
-- Пушкин? -- переспросил Сельдяев. -- Александр Сергеевич?
-- Да.
-- Он тут что же... всегда жил или так только... Для "Онегина" поселился?
-- Специально для "Онегина". Заплатил за квартиру двадцать тысяч.
Печать холодного равнодушие лежала на каменном лице Сельдяева.
-- Вы что же думаете, -- сурово спросил я -- Что прежние 20 тысяч все равно, что теперешние? Теперь это нужно считать в 50 тысяч!
-- Гм... да! А он за "Онегина"-то много получил?
Я бухнул:
-- Около трехсот тысяч.
-- Ну, тогда, значит, -- рассудительно заметил Сельдяев, -- ему можно было за квартиру такие деньги платить.
Мы, молча зашагали дальше.
-- А вот этот дом -- видите? Тут несколько лет тому назад произошла страшная драма: один молодой человек вырезал обитателей четырех квартир.
-- Это сколько-ж народу?
-- Да около так... пятидесяти человек.
Он осмотрел фасад и спросил:
-- В один день?
-- А то как же?
-- Этак, пожалуй, и не успеешь, если без помощников. За что же он их?
-- Из мести. Они съели его любимую невесту.
Сельдяев качнул головой.
-- Людоеды, что ли?
-- Нет!! -- отрезал я, дрожа от негодования. -- Это был такой клуб, где ради забавы каждый день ели по человеку. И полиция молчала, потому что ей платили около трех миллионов в год.
-- Рублей?
-- Нет, фунтов стерлингов!!! В фунте -- 9 рублей 60 копеек.
-- Английские фунты?
-- Да! Да!
Он улыбнулся краешком рта.
-- Гм! Просвещенные мореплаватели...
* * *
-- Стойте! Вот дом, который вас позабавит. Здесь помещается питомник полицейских собак. Есть тут одна собака Фриц, которая не только разыскивает преступников, но и допрашивает их.
-- Овчарка? -- спросил он, оглядев фасад.
-- Чёрт ее знает!! Недавно захожу я сюда, a она сидит за столом и спрашивает какого-то парня:
"Как же вы говорите, что были в тот вечер на Выборгской стороне, когда я нашла ваши следы на лестнице дома Гороховой улицы?" Так парень на колени. "Ваше высокородие! Не велите казнить, велите слово молвить!.. Так точно, повинюсь перед вами".
-- Да, да. -- сказал Сельдяев, шумно вздыхая. -- Читал и я, что где-то в цирке показывали собаку, которая разговаривает; потом кошку... тоже. Показывали... которая разговаривает...
Я погасил искорку ненависти, мелькнувшую у меня в глазах, и сказать, хлопнув его по плечу:
-- Так слушайте, что же дальше! Собака, значить, к нему: "А так, ты сознаешься?!" -- Так точно. Только вот что, ваше высокородие; так как говорим мы глаз-на-глаз, то разделимся по совести. Я вам бриллиантовые сережки отдам, что украл, a вы меня отпустите..." И кладет перед ней серьги. Собака только плечами пожала: "куда мне они... Ведь всем ювелирам приметы и описание сережек разосланы. Попадусь еще... Есть у тебя рублей пятьдесят наличными -- так дай. Тогда чёрт с тобой, иди куда хочешь". -- "Тридцать пять есть!" -- "Ну, ладно, давай, да сережки то не здесь сбывай, a где-нибудь в Берлине или Дрездене!" Опустила деньги в карман да прочь со стола.
Сельдяев выслушал меня, и в глазах его мелькнула тень интереса к моему рассказу.
-- Да откуда ж у неё карман?
-- Карман сюртука. Они ведь одеваются в форменные сюртуки. Шашка. Сапоги. Свисток. Жалованье 11 рублей с полтиной.
Но Сельдяев снова погас. Взял меня под руку и спросил:
-- Ну, a что тут у вас, вообще, в Петрограде интересного?
-- Вы лучше расскажите, что у вас слышно в Армавире?
Он остановился, обернулся ко мне, и лицо его сразу оживилось.
-- Да ведь я вам и забыл сказать: вот будете поражены... Ерыгина помните?
-- Не помню.
-- Ну, как же. Так можете представить, этот Ерыгин решил ехать в Сибирь! Нашел в Иркутске магазин, который ему передали на выгодных условиях -- и переезжать туда... Не чудак ли?.. Что вы на это скажете? !
И он залился закатистым смехом.
-- Господи Иисусе! Кто бы мог подумать! -- воскликнул я и вслед за ним залился смехом.
Как это часто бывает, смеялись мы по разным поводам.
http://fedpress.ru/federal/econom/tek/id_151962.ht...
великое открытие в области физики
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.